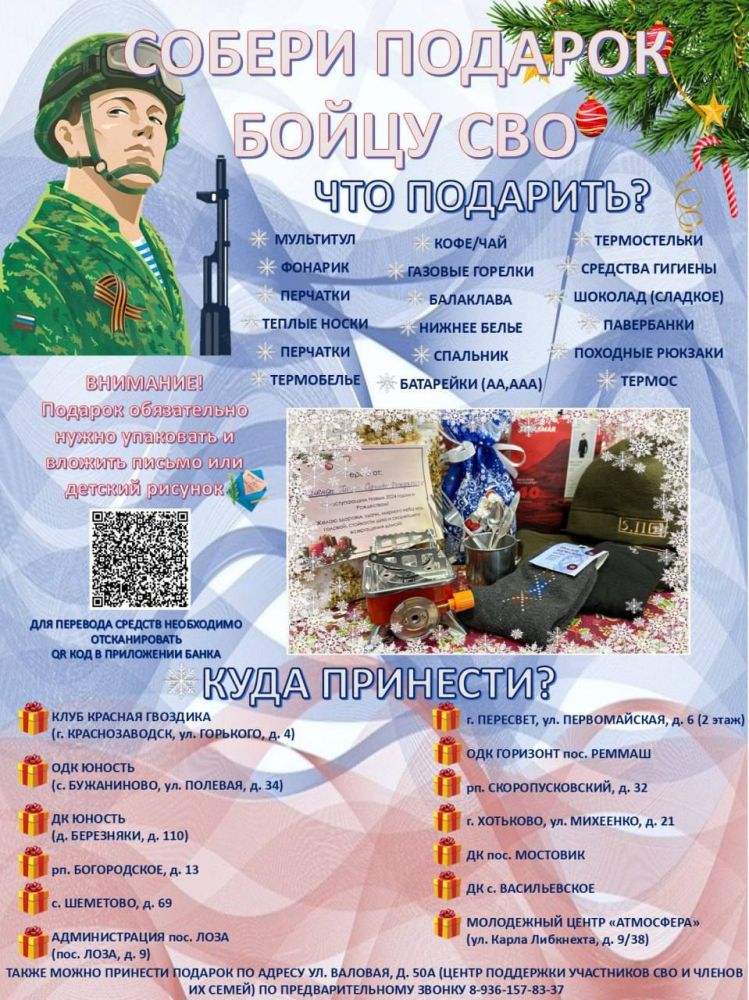Распространение коз как популярных домашних животных началось в нашем городе в годы Первой мировой войны. Конечно, их разводили и раньше, но охарактеризовать этот процесс как целое социальное явление тогда было нельзя. Заметным фактором жизни горожан козы стали в 1920-х годах. Живший тогда в Загорске писатель Михаил Пришвин очень точно подметил в своём дневнике: «Коза — верный признак обнищания народа».
Согласно материалам городского архива, к 1925 году в городе их числилось 562 особи обоего пола. Один из основных выпасов находился за Красюковкой, в районе песчаного карьера и поросшего кустарником склона, получивших соответственное прозвище — «Козья горка».
Однако долго и бесконтрольно бродить им там не довелось: козы объедали укреплявшую сыпучий песчаный грунт растительность, что не нравилось городским властям. Выпас коз в этом районе запретили, что едва не привело к натуральному «бабьему бунту»: подобный поворот событий искренне возмутил местных жителей. Впрочем, власти вскоре нашли более надёжный способ вытеснить пастбище в другое место: в песчаном карьере стали проводить стрелковые соревнования и стрельбы участников военно-спортивных кружков, что создавало риск случайной гибели животных. В результате к началу 1930-х козы полностью переместились за Восточный посёлок и на берега Скитского пруда, где к тому времени уже и следа не осталось от некогда знаменитых монастырских огородов.
Разводить коз в то время было выгодно: в отличие от другой домашней скотины их не облагали подоходным налогом и всевозможными натуральными госпоставками. Для «поддержания штанов» населения это был немаловажный фактор. Но к 1931 году в городском финансовом отделе пришли к выводу, что общие доходы от продажи козьего молока выросли настолько, что стали составлять значительную сумму. Поэтому «сталинскую коровку» (контрреволюционная кличка козы) обложили сбором: с членов профсоюза полтора рубля с головы в год, с остальных — пять рублей в год. Таким образом, коза была приравнена к домашней собаке, за которую в казну вносилась та же сумма. К середине 1950-х годов городское поголовье коз перевалило за тысячу.
Однако времена уже изменились, и бродившие где попало копытные стали мешать новому укладу жизни. К тому времени в городе началась активная кампания по озеленению, в которой участвовали предприятия, горкомхоз, школьники и пенсионеры. Объедавшие траву и всевозможные ростки козы этому отнюдь не способствовали, оказавшись активными врагами программы «Украсим Родину садами». У Агнии Барто даже было стихотворение про пионера, который мечтал «перевоспитать» козу.
«Всю весну мечтал Володя:
«Хорошо бы сделать так,
Чтоб коза на огороде Прополола весь сорняк!»
Он обдумал это дело,
План Володин был неплох:
Чтоб коза сорняк поела,
Но не трогала горох.
Что она лежит без толку,
Щурит глупые глаза!
Ведь могла бы на прополку
По утрам ходить коза».
Кроме того, к тому времени даже на окраинах уже началось довольно бурное автомобильное движение. Поразмыслив, в 1959 году исполком горсовета принял постановление о стойловом содержании коз, что постепенно привело к заметному сокращению их поголовья.
В последующие годы актуальность строгого соблюдения правил выпаса незаметно отпала. Козу лишь время от времени «осчастливливали» очередными постановлениями с запретом выпаса в том или ином конкретном месте. Например, в 1980 году для копытных закрыли вход в березовую рощу на Красюковке, где к этому времени был создан природный заказник.
Козьи топонимы прочно вошли в наш быт. Помимо Козьей горки, под которой обычно подразумевается весь Восточный посёлок, в Сергиевом Посаде недалеко от Скитских прудов есть Козий переулок. Он был основной трассой для пастухов Вифанской улицы, которые гнали на выпас местных коз через маленький ручей Корбуху.
Александр Рдултовский
Фото из архива редакции