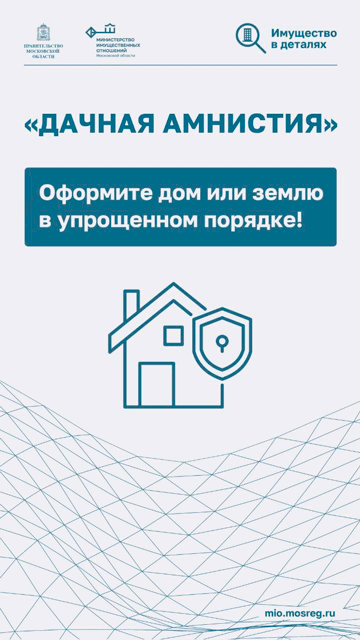17 февраля Владимир Познер вслед за десятками россиян обратил внимание на «исчезнувший» из информационного поля законопроект: «Его должны были обсудить в первом чтении в прошлом году, в декабре. Потом в этом году, в январе. Пока ничего этого не происходит, и я не понимаю — почему», — отметил известный ведущий в своей обращённой к депутатам реплике.
Вслед за Владимиром Владимировичем скажем сразу, что сама проблема никуда не исчезла. Из статистических данных у нас есть отчёты МВД и экспертные оценки общественных организаций вроде Human Right Watch, которые в своём материале ещё 2018 года говорили, что в России насилие практикуют в каждой четвёртой семье.
Во время подготовки материала мы решили обсудить проект закона с теми, ради кого он непосредственно принимается, — с жертвами. После чего нас ждало довольно жуткое открытие: почти у каждого в редакции нашлась хотя бы одна знакомая, так или иначе столкнувшаяся с насилием от близкого человека внутри собственного дома.
«Не в нашей компетенции»
Что же нового вводит закон? Его так ждёт одна часть общества, а другая изо всех сил отвергает.
Сущностно в нём есть три новых понятия: само «семейно-бытовое насилие» (да, у нас сейчас этого определения нет ни в уголовном, ни в административном кодексе), защитное предписание и «организации специализированного социального обслуживания». Основное недовольство как у сторонников принятия, так и у противников вызывает именно первая дефиниция.
Возмущение противников чаще всего касается самого факта его существования. Например, по мнению небезызвестного протоиерея Димитрия Смирнова (председателя патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства), законопроект направлен на разрушение семьи, поэтому он вреден и приниматься не должен. Есть и другие подобные аргументы — «Государство не должно лезть в семью», «Будут перегибы, когда за пощёчину будет заводиться уголовное дело» и т. д. Но обсуждать их сейчас довольно странно: мы находимся в положении, когда регулирования нет и выглядит всё неприглядно даже без физического насилия.
«Это постоянное напряжение. Он приходил на работу, звонил моим подругам. Человек из-за бешеной ревности всячески пытался запереть меня, влезть везде, ограничить всё, — рассказывает Арина (имя изменено), полгода прожившая с домашним тираном. — Сначала это были постоянные крики, потом бросание вещей в стены, преследование. Я пыталась звонить в полицию, когда он ломился в дверь, но мне сказали: «Это ваши семейные разборки». Всё закончилось, только когда я сама пришла и написала заявление — уже после именно физического насилия. Я подумала о своём ребёнке и поняла, что это уже опасно».
Из слов Арины понятно, что насилие почти всегда идёт по нарастающей: случаев, когда фраза «Это больше не повторится» правдива — единицы.
«Мама пыталась написать заявление не один раз, даже не два: со снятыми побоями, да просто с синяками по всему лицу, — рассказывает Карина (имя изменено), её семья в Хотькове больше десяти лет прожила в атмосфере страха. — В отделении заявление просто любыми способами отказываются принимать. Разводят руками: «Это не в нашей компетенции». Что же тогда в вашей? Труп вывезти?».
На этом фоне даже перегибы «испанского варианта», где против насильника любого типа действует презумпция виновности, выглядят не столь уродливо.
Интересно, что сторонники закона критикуют нынешний проект за то же определение. Дело в том, как оно звучит: «Семейно-бытовое насилие — умышленное деяние, причиняющее или содержащее угрозу причинения физического и (или) психического страдания и (или) имущественного вреда, не содержащее признаки административного правонарушения или уголовного преступления». Вот в этом последнем причастном обороте кроется подвох: да, ситуация нашей первой героини наконец-то вносится хоть както в правовое поле, но если есть, например, побои — это уже уголовная статья и предлагаемым законом не регулируется, а значит, ситуация никак не меняется.
Смотрите: «Я тебя убью» — статья 119 УК РФ («Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью»), пощёчина — 115 УК РФ («Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью»), гематома от удара — 112 УК РФ («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью»). Всё это уже есть и зачастую не работает за закрытыми дверями квартиры, где вместе живут и жертва, и насильник.
Наедине с насильником
Такое бессилие законов — следствие особенностей процессуальной системы. Если заводится уголовное или административное дело, начинается следствие (процесс длительный), а в это время насильник, как правило, не содержится в изоляторе, а возвращается домой. «Я сама приходила в отдел и уже просто орала, чтобы его хотя бы на сутки закрыли — чтобы мы вещи могли собрать и уехать. Уже не важно куда, лишь бы дальше, — описывает Карина. — На практике, если даже заявление не принимали, он всё равно о нём узнавал и вот тогда начиналось… Если раньше это был «просто» удар об стену головой, то тут — избиение. И прятаться некуда. Это главное, что должно быть — хотя бы эти сутки».
В нынешней системе насильника и жертву оставляют наедине, и тогда-то, согласно экспертным оценкам и личным историям, происходит основное количество тяжких и особо тяжких преступлений: агрессору больше нечего терять и насилие лишь нарастает. Понимая это, жертва никуда не обращается — будет только хуже. Чтобы как-то разорвать этот замкнутый круг, в закон вводятся «организации специализированного социального обслуживания» и защитные предписания.
Сложности формулировок
Стоит сказать, что первые уже существуют на общественных началах и законопроект лишь признаёт их официально (лицензия на деятельность, официальное обращение в органы правопорядка через организацию) с возможностью получать финансирование от государства. К самому институту вопросов никаких — он должен предоставить убежище жертве, которой больше некуда идти.
Впрочем, есть странный момент с формулировками. Например, этим организациям предлагается «в рамках ведения учёта и отчётности в сфере социального обслуживания» формировать «статистическую информацию об оказании помощи лицам, подвергшимся семейно-бытовому насилию». Во-первых, какая-то жутковатая аналогия возникает с западной практикой: в США существует всем известный реестр сексуальных преступников (человеку из него не получить хорошую работу и в целом тяжелее жить). У нас же как будто хотят создать «реестр жертв» — в который, вероятно, захотят попадать далеко не все, поскольку утечки подобного рода конфиденциальной информации происходят в нашей стране едва ли не ежедневно.
Во-вторых, бюрократизация всегда порождает игры со статистикой, когда, с одной стороны, «зафиксируйте поменьше, а то у нас по региону цифра плохая, начальство недовольно», с другой «зафиксируйте побольше, а то не получим финансирование». Но обе эти проблемы «родовые»: мы видим их во всех сферах российской действительности.
Защитное предписание
С защитным предписанием всё сложнее. По законопроекту есть два типа: обычное и судебное. Первое из них должно как раз развести насильника и жертву: предписание выносится любым участковым и действует сразу. Возникает противоречие, ведь запретить могут следующее: «1) совершать семейно-бытовое насилие; 2) вступать в контакты, общаться с лицом (лицами), подвергшимся (подвергшимися) семейно-бытовому насилию, в том числе по телефону, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 3) предпринимать попытки выяснять место пребывания лица (лиц), подвергшегося (подвергшихся) семейно-бытовому насилию, если это лицо (лица) находится (находятся) в месте, неизвестном нарушителю». Ни слова о раздельном проживании или приближении друг к другу.
Закон в целом довольно размыт, что лучше всего выразила одна из составителей его первоначального варианта ещё за авторством комиссии СПЧ Екатерина Шульман в эфире радио «Эхо Москвы»: «То есть контактировать нельзя, а место жительство покидать тоже не надо. Это в случае с этим, так сказать, полицейским предписанием. Мы тут выражали всяческие опасения насчёт количества метров, на которые можно будет приближаться — 10 там будет или 50 — так вот, тут вообще никаких метров нет в принципе».
Ещё одна деталь: такое предписание было бы полезно в случаях так называемого stalking (аналогичный термин — «преследование»). Часть его проявлений мы видим в примере Арины, но есть и другие варианты. «Это тяжело объяснить. Тебе постоянно пишут с фейковых аккаунтов, смотрят каждое твоё фото, комментируют, распускают слухи про тебя среди твоих друзей, стоят под окнами. Вроде бы никто ничего не делает, но ты постоянно оборачиваешься, постоянно в страхе», — ёмко описывает stalking Алина (имя изменено), пережившая его от бывшей девушки своего молодого человека. Явление тоже насильственное, тоже возникает на почве близких отношений, но в законе вообще никак не упомянутое.
Время не лечит
Есть у защитных предписаний и ещё одна спорная деталь — время. Максимально их предлагают выписывать на три месяца (30 дней, потом продление ещё на 60). Вроде достаточно долго, разве нет?
«Его тогда так и не нашли и никак не наказали: регистрация у человека где-то в деревне, а сам он всю жизнь по съёмным квартирам. Продолжает писать сообщения до сих пор, я, конечно, не отвечаю. Прошло шесть лет», — рассказывает Арина.
«Когда мы сбежали, сначала всё было неплохо, по крайней мере, пока мой отец не нашёл новую семью. Но когда его и оттуда выгнали, он отыскал нас и стал «проведывать»: с выбитыми дверями, угрозами, побоями... Сам насильник никогда не остановится — он уже привык, он хочет чувствовать власть, чтобы его все обслуживали и подчинялись. И он всегда возвращается», — описывает Карина.
Насильники не исчезают сами по себе: у них с жертвами устанавливается болезненная связь, которую потерпевшие зачастую сами поддерживают (как раз та гипотетическая ситуация, когда полиция выезжает на ссору супругов, а в итоге на них нападает рассвирепевшая жена с криками «Куда вы его забираете?!»).
Кстати говоря, в контексте закона можно было бы обсудить ещё и гендерный вопрос. Интересно, что пол жертвы в документе не уточняется, но если мы берём общественное мнение — мужчина, который подвергается систематическому насилию в семье, в сущности, ещё более бесправен: к его попыткам жаловаться добавится всеобщее непонимание.
Можно спорить о ложных обвинениях (имеет ли место хоть где-то в законодательстве презумпция виновности). О «дырах» и недомолвках в формулировках. Всё можно. Нельзя только делать именно то, что и происходит: забывать и замалчивать. Проект закона выложен на всеобщее обозрение с конца 2019 года, но не прошёл даже первое чтение.
Как насильники никуда не исчезают из жизни жертв, так и само насилие никуда не исчезает из жизни нашей страны. Сколько бы мы ни закрывали шторы своей души разговорами о «традиционных ценностях», ни запирали двери фразой «будут перегибы» и сколько бы потом ни пытались спрятать ужас и боль отдельных людей за сухими цифрами статистики «насильственных преступлений за отчётный период».
Иннокентий Майоров